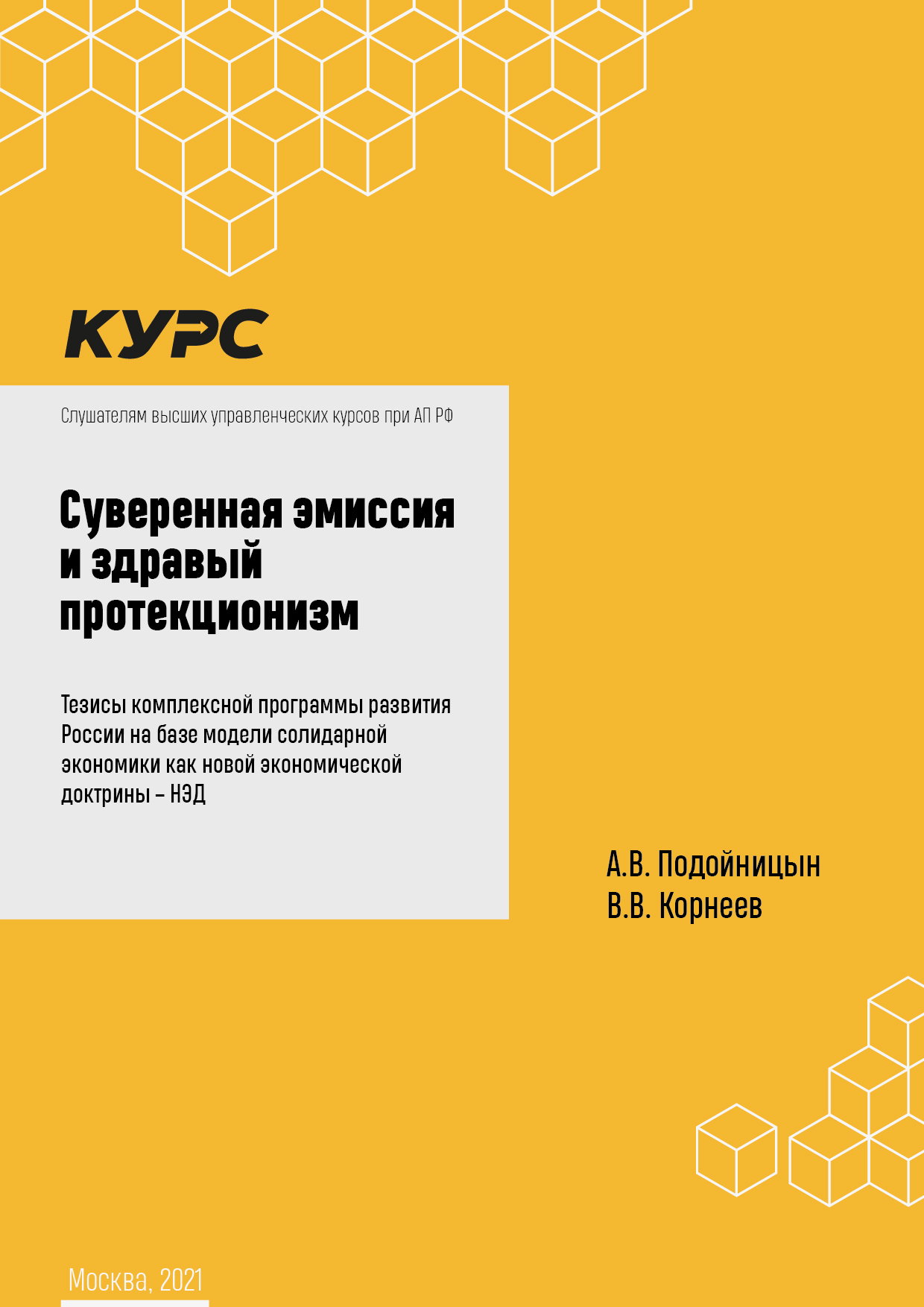Содержательному обсуждению вопроса о необходимости и целесообразности планирования в государстве очень мешает крайняя мифологизация темы и постоянный перевод дискуссии в область простых эмоциональных рефлексий. Разговор чаще всего уходит в беспредметный галдеж по принципу «или рынок – или план». Это все равно что обсуждать, какая нога лучше – левая или правая.
Еще более столетия назад одни теоретики утверждали, что планирование должно быть не только стратегическим, но и повседневным, безусловно доминируя над рыночными отношениями. Другие теоретики категорически отрицали необходимость всякого планирования, в том числе стратегического, считая, что свободный рынок отрегулирует социально-экономические процессы гораздо лучше и обеспечит более быстрое и гармоничное развитие общества.
За прошедшие десятилетия были опробованы и те, и другие крайние варианты; реальная жизнь уже давно и окончательно предложила свои исчерпывающие ответы.
Все результаты практического применения показали, что наиболее эффективными оказались смешанные подходы к экономической политике государства, которые сочетали в себе использование как механизмов рыночного самодействия, так и элементов стратегического планирования на государственном уровне.
В последние 100 лет наиболее успешным оказалось развитие тех стран, которые в своей экономической политике сочетали использование рыночных и плановых методов управления экономическими процессами. Начало этому было положено в США в период преодоления последствий Великой депрессии, в ходе реализации «нового курса» Ф. Д. Рузвельта. Тогда вместе с кейнсианскими подходами в сфере экономического регулирования были активно использованы элементы планирования среднесрочных мер стабилизации экономики и общественного развития. В послевоенный период наиболее показательными с этой точки зрения оказались «истории успеха» послевоенных Франции – во многом в результате создания уникальной системы индикативного планирования и «дирижистской» экономической политики, Германии, где реформы Л. Эрхарда были направлены на стимулирование рыночных сил, но включали ряд инструментов планирования, и отчасти Японии. В экономической политике этих стран рыночные меры сочетались с элементами средне- и долгосрочного планирования. Несколько позднее этот успех повторили, используя похожие смешанные подходы к экономической политике, Южная Корея, Китай и ряд стран Юго-Восточной Азии. Начиная с 1970-х годов, когда развитые страны стали постепенно сокращать элементы планирования в экономической политике, практика долгосрочного прогноза, плана и стратегии развития стала важной частью управления транснациональных корпораций.
По сути, сама практика стратегического планирования никуда не исчезла, лишь поменялся планирующий субъект и, соответственно, цели и смыслы планирования. Общегосударственные цели аккуратно и ненавязчиво были заменены на планы и цели крупнейших ТНК и их агломераций.
Уникальный и очень полезный опыт построения масштабной системы планирования в нерыночной экономике и на том уровне развития информационных технологий был накоплен и в СССР. Использование инструментария планирования в мобилизационной экономике – при постоянном дефиците ресурсов, внешнем экономическом и политическом давлении, торговых и технологических ограничениях – позволило Советскому Союзу на протяжении второй половины ХХ в. стать военной и политической сверхдержавой. Однако полный отказ от частной и кооперативной инициативы, детализации и директивность планирования, доведенные непосредственно до абсурда и противоречия обычному здравому смыслу в ходе хрущевских и более поздних «новаций», привели советскую модель к критичным дисбалансам и тяжелейшему кризису.
Столь же печальными, как и жесткое следование принципам директивного планирования, в подавляющем большинстве случаев оказались эксперименты, нацеленные на тотальную либерализацию национальных экономик. В частности, эти эксперименты многократно вызывали серьезное ухудшение экономической и социально-политической обстановки во многих странах Южной Америки, Восточной Европы и в ряде стран постсоветского пространства. Конечно, самый яркий и наглядный пример – это российская катастрофа 90-х гг.
Учет этого опыта привел к тому, что экономическая политика смешанного характера, использующая и рыночные, и плановые механизмы, в настоящее время в той или иной степени применяется практически во всех развитых странах мира, а также в новых странах-лидерах мировой экономики.
Одним из ключевых методов смешанной экономической политики стало стратегическое планирование, которое создает долгосрочные ориентиры для развития, позволяет уменьшать уровень экономической неопределенности и связанных с ней рисков, стимулирует деловую активность крупного, среднего и даже малого бизнеса, обеспечивая желательные структурные сдвиги и способствуя модернизационным процессам.
Стратегическое планирование как таковое никак не препятствует свободному функционированию механизмов рыночного самодействия.
В 2000–2010-е годы стратегическое планирование в его обновленных формах, учитывающих рост взаимозависимости мировой экономики и цифровизацию механизмов государственного управления, прочно вошло в практику управления ведущих развитых стран: США, Франции, Японии, Южной Кореи, а также Китая как на макро-, так и на мезо- и микроуровне. Эти страны достаточно эффективно решают важнейшие социально-экономические задачи, задачи ускоренной реиндустриализации на новой технологической основе.
Необходимость государственного регулирующего вмешательства в экономическое развитие особенно остро ощущается в критические периоды, в частности в условиях экономических кризисов, порождающих необходимость структурной перестройки и глубокой модернизации.
Несмотря на то, что на уровне идеологии большинство администраций США на протяжении последних 40 лет оставались сторонниками свободного рынка, в реальности стратегическое планирование в сфере не только национальной безопасности, но и социально-экономического развития продолжало развиваться. Значительный шаг в области развития стратегического планирования экономического развития страны на федеральном уровне был сделан администрацией У. Клинтона в 1993 г., когда был принят «Закон о работе правительства и ее результатах», который определил 5-летний период разработки планов и постановки целей государственных ведомств и порядок их взаимной увязки. В 2011 г., на волне антикризисной политики, когда федеральные ведомства США нуждались в стратегических ориентирах деятельности и развития, администрация Б. Обамы в начале 2011 г. приняла новый «Модернизированный закон о работе правительства и ее результатах». Закон предписывает федеральным агентствам необходимость межведомственного взаимодействия при определении планов и целей, а также показателей отчетности, привязывает стратегическое планирование в США к четырехлетнему президентскому электоральному циклу. Определение межведомственных целей, их согласование также их координацию с соответствующими комитетами и подкомитетами Конгресса обеспечивает Президентская программа управления в составе Административно-бюджетного управления исполнительного офиса президента США. Формирование задач каждого агентства, согласно Закону, согласуется с более широкими федеральными стратегическими планами.
Кроме того, также в периоды правления администраций У. Клинтона, а затем в еще большей мере Б. Обамы в США на государственном уровне сформирована система стратегического планирования научно-технологического развития, его долгосрочных приоритетов и целей в важнейших инновационных отраслях.
Франция к началу 1990-х годов постепенно отказалась от прежнего опыта «дирижистской» экономической политики, однако практика индикативного планирования сохранилась, хотя и стала в большей степени прогнозным и аналитическим инструментом. Прежний ключевой орган стратегического планирования – Генеральный комиссариат по стратегии (сейчас – Генеральный комиссариат по стратегии и перспективам) превратился в крупнейший межведомственный аналитический центр правительства, разрабатывающий долгосрочные (на 10 лет) прогнозы и сценарии развития экономики Франции, ее важнейших отраслей, общества и человеческого капитала, науки и технологий, регионов. Этот орган обеспечивает правительство стратегической аналитикой и сценарными прогнозами социально-экономического развития и подчиняется непосредственно премьер-министру.
Наконец, упомянем фантастический опыт Китая, до сих пор сохраняющего традицию разработки и реализации пятилетних планов, хотя их форма и содержание существенно изменились. Сегодня используемые в этой стране подходы заметно отличаются от директивной системы планирования. В настоящий момент власти Китая широко используют также индикативную систему планирования, в большей степени соответствующую запросам рыночной экономики и нормативному тезису о «решающей роли рынка в распределении ресурсов». Произошел переход от количественных плановых показателей к качественным, которые определяются на основе прогнозов и большей частью носят рекомендательный характер. Стратегическое планирование предусматривает долгосрочные цели и приоритеты социально-экономического развития страны.
Тенденции развития стратегического планирования в России
Критичные вызовы заставили и нас отказаться от либерального фундаментализма в самом конце 90-х.
Результатом изменения взглядов на подходы к социально-экономическому развитию стали разработка и принятие 28.06.2014 г. Федерального закона № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-172).
Следует отметить, что в целом ФЗ-172 носит рамочный характер. Его основная задача – внести новые элементы в систему государственного управления экономическими процессами, а именно: уточнить и дополнить перечень документов стратегического планирования; четко определить характер этих документов и их содержание; прописать процедуры разработки и принятия стратегических документов (сроки, иерархию, способы согласования и т. д.).
Наряду с традиционно разрабатываемыми документами, описывающими будущее социально-экономического развития страны, регионов и отраслей в той или иной форме, такими как ежегодное Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ, Стратегия национальной безопасности РФ, Стратегия социально-экономического развития РФ, отраслевые и региональные стратегии, региональные прогнозы социально-экономического развития, посредством ФЗ-172 в перечень документов стратегического планирования включен ряд новых документов. В их число входят, например, Стратегия пространственного развития РФ, которая, по сути, должна возродить схемы размещения производительных сил, и Стратегия научно-технологического развития РФ, призванная формировать основные направления инновационного развития страны. Серьезно расширен перечень официально разрабатываемых федеральными ведомствами прогнозов, в который дополнительно включены прогноз научно-технологического развития страны; стратегический, бюджетный прогнозы на долгосрочный период в целом по стране и по субъектам РФ.
В целом разработка ФЗ-172 стала серьезным шагом вперед в формировании эффективной системы государственного стратегического планирования.
В то же время внедрение положений ФЗ-172 в практику государственного управления сталкивается с рядом сложностей, связанных как с инерцией ранее существовавших регламентов и методов управления экономикой, так и с определенными недостатками самого Закона о стратегическом планировании. Как следствие, пока так и не удалось сформировать эффективно действующую систему стратегического планирования в стране.
С одной стороны, сложившаяся управленческая практика исполнительной власти по-прежнему ориентирована на решение задач, не выходящих за пределы среднесрочного горизонта. В органах государственной власти зачастую преобладает мнение, что сегодня в условиях сложной геополитической обстановки и нестабильности следует принимать антикризисные стабилизационные планы краткосрочного характера, стратегического планирования для которых не требуется. По факту российская экономическая политика продолжает строиться по принципам, в соответствии с которыми главная ее цель сводится к обеспечению макроэкономической стабилизации и поддержанию бюджетной сбалансированности. В такой модели управления задачи текущей бюджетной политики доминируют над задачами долгосрочного экономического роста, структурной и технологической модернизации. В результате стратегическое планирование как инструмент решения структурных проблем национальной экономики выполняет вторые или третьи роли.
ФЗ-172 даже на методическом уровне не описывает механизмов межотраслевого и межрегионального согласования разрабатываемых документов стратегического планирования. Нет ясности, каким образом должна происходить увязка разрабатываемых документов стратегического планирования с имеющимися ресурсами. До сих пор не отработана методология последовательной разработки цепочки документов стратегического планирования: прогноз – стратегия – программа (план) – проект (конкретное задание) и их реализация. Отсутствуют сквозные взаимоувязанные целевые индикаторы таких документов.
При этом, поскольку в ФЗ-172 предписано вести разработку стратегий и на муниципальном уровне, число документов стратегического планирования увеличивается до нескольких десятков тысяч. Так, в едином государственном реестре документов стратегического планирования по состоянию на август 2019 г. было зарегистрировано на региональном уровне 2 567 документов, на муниципальном – более 60 тыс., из которых более 2 200 стратегий социально-экономических образований, более 50 тыс. муниципальных программ. Такое огромное количество документов стратегического планирования, безусловно, избыточно, на практике их невозможно скоординировать и увязать.
Не лучше ситуация и на отраслевом уровне. К настоящему времени разработано более сорока стратегий развития различных сфер деятельности и секторов национальной экономики, реализуемых на основе государственных программ, включая программы развития высокотехнологичных отраслей промышленности, основная масса которых принята еще до выхода ФЗ-172. При этом многие из принятых отраслевых программ и стратегий носят декларативный характер, не имеют четких целевых показателей и не содержат объяснений по поводу того, какое ресурсное обеспечение для их реализации необходимо и где его найти. Соответственно, во многих стратегических документах отсутствует инвестиционная составляющая – перечень и описание основных проектов, реализация которых обеспечивает реальное развитие экономического потенциала отраслей. В лучшем случае отраслевые программы и стратегии характеризуют миссию исполнителей, а не цель, к достижению которой следует стремиться.
Из-за отсутствия соответствующих указаний в ФЗ-172 сопряжение целей в разных документах – сейчас воля разработчиков, а не их обязанность. Не выработаны подходы к «редукции» более высоких целей в подцели и задачи для более низких по статусу документов. По-прежнему сохраняются серьезные противоречия между отраслевыми и финансовыми ведомствами. Эти две группы ведомств руководствуются различными, плохо состыкованными целями, приоритетами и принципами работы на фоне утраты рядом федеральных органов исполнительной власти (относительно советского периода) компетенций по разработке масштабных документов межотраслевого и межрегионального формата.
Таким образом, сегодня в стране существует огромное количество документов стратегического планирования, которые не увязаны между собой с точки зрения ни целей и задач, ни понятийного аппарата. Они не образуют единую систему, что создает серьезные риски потерь финансовых, трудовых и природных ресурсов, дальнейшего углубления межрегиональных диспропорций.
Перспективы развития стратегического планирования
Сложившаяся к настоящему моменту ситуация требует серьезной корректировки системы стратегического планирования.
Таким образом, современная государственная политика в сфере стратегического планирования предполагает проведение мер для перевода сложившейся, в том числе на основе принятого законодательства и действующей практики управления, системы стратегического планирования в новое состояние, которое отвечает требованиям дальнейшего этапа развития страны в соответствии с национальными целями, сформулированными в Послании Президента Российской Федерации 1 марта 2018 года. и Указе Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.».
С этой целью необходимо, прежде всего, завершить формирование общего контура государственного стратегического планирования социально-экономического развития страны. Фундамент и каркас этой системы стратегического планирования должны составлять такие стратегические документы, как:
– стратегия национальной безопасности РФ;
– стратегия социально-экономического развития РФ на долгосрочную перспективу;
– стратегия научно-технологического развития РФ;
– стратегия пространственного развития РФ на долгосрочную перспективу;
– план национального экономического развития, включающий программы развития важнейших секторов экономики и макрорегионов;
– основные направления единой государственной денежно-кредитной политики и стратегия совершенствования бюджетной системы;
– план деятельности правительства РФ;
– трехлетний федеральный бюджет (в увязке с трехлетними бюджетами регионов);
– среднесрочный план государственных закупок.
Ядро основных стратегий может быть дополнено стратегиями развития особо важных отраслей, государственных корпораций (в особенности связанных с обеспечением национальной безопасности, ОПК, направлениями научных и научно-технических прорывов) регионов и макрорегионов, стратегических экономико-географических зон (Арктическая зона; Сибирь; Дальний Восток).
В системе государственного стратегического планирования целесообразно обозначить его опорные элементы: макроэкономическое планирование; определение долгосрочных трендов структуры и пропорций экономического развития (в том числе посредством активного использования балансовых методов, в первую очередь межотраслевых балансов); управление государственным сектором, государственными корпорациями, государственным имуществом.
Отдельная проблема – формирование целостного понятийного аппарата документов стратегического планирования федерального уровня – все ключевые термины, используемые в государственных стратегиях, нуждаются в единых дефинициях. Только такой подход может обеспечить формирование единой системы терминов стратегического планирования, которая бы дополнительно обеспечивала концептуальную непротиворечивость документов.
Госплан 2.0
Однако ключевым и исходным звеном в работе по восстановлению системы стратегического планирования в России должно стать решение об институциональных основах такового – без перекоса в сторону ведомственных и региональных интересов.
Совет по стратегическому планированию и проектам при Президенте РФ не может заменить собой орган власти с соответствующими компетенциями и полномочиями, поскольку в значительной мере является экспертно-аналитической структурой и не в состоянии выполнять властные и административные функции.
Следовательно, необходим реальный орган власти и управления, который, наряду с ключевыми структурами регулирования внутренней и внешней политики, институтами верховной власти, будет входить в состав министерств и федеральных служб, подчиняющихся непосредственно президенту РФ. Минэкономразвития РФ с его современными полномочиями явно не сможет справиться с такой функцией. Крайне важно, чтобы в работе этого органа задачи разработки стратегических приоритетов и целей социально-экономического развития сочетались с задачами прогнозирования, оценки и планирования мер в сфере национальной безопасности в ее широком понимании, а также оценки рисков различного рода.
Таким образом, предложенные меры по ускорению имплементации инструментов стратегического планирования в процесс формирования и реализации экономической политики наиболее актуальны в данный момент, хотя далеко не исчерпывают всех проблем, которые предстоит решить для превращения стратегического планирования в целенаправленный импульс роста. Уникальные для этого возможности открываются в связи с развитием цифровизации различных сфер общественной и экономической жизни России, включая государственное управление.
Автор: Андрей Подойницын